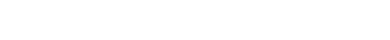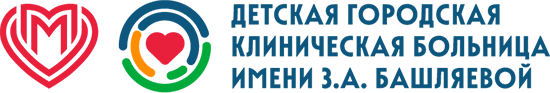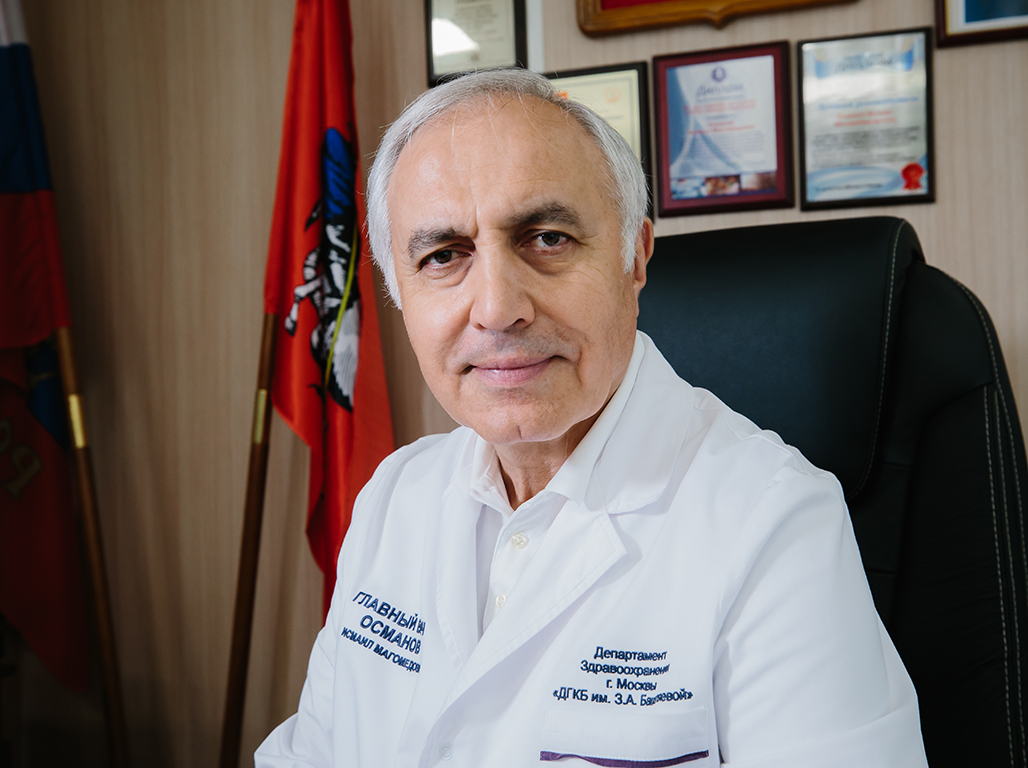— Исмаил Магомедович, насколько трудна эта должность — главный педиатр Москвы?
— Любая должность в педиатрии трудная и ответственная, и по-другому быть не должно, даже если это медсестра. Конечно же, особая ответственность у главного специалиста. Институт главных специалистов Москвы — это уникальная структура, которая координирует все профили, и каждый специалист проводит анализ: практический, образовательный, научный, административный. Мы стараемся идти впереди на много шагов в соответствии с теми задачами, которые поставлены правительством, Департаментом здравоохранения Москвы, и это не просто громкие слова.
— Вы сказали, что стараетесь идти на много шагов впереди. В чем это проявляется, как вы это делаете?
— Московское здравоохранение — самое стремительно развивающееся здравоохранение в мире, и педиатрия в частности. Здесь задачи определяют Департамент здравоохранения, правительство Москвы, и мы оперативно все это внедряем в клиническую практику, дальше получаем опыт, совершенствуем, делимся с нашими коллегами по всей стране и за рубежом в рамках наших многочисленных научно-практических мероприятий, издательской деятельности. Те технологии, которые внедряются в Москве, наши коллеги стараются внедрить у себя, и мы всячески этому содействуем.
— Что это за технологии?
— Сегодня в московской педиатрии доступны все самые передовые мировые технологии, а именно — высокотехнологичная медицинская помощь, она выполняется по всем профилям. Здесь московская педиатрия абсолютно самодостаточна, не нужно кого-то направлять в федеральные центры, тем более за рубеж. Еще 10–15 лет назад это было не так. Сегодня мы спасаем и выхаживаем ранее безнадежных детей, в том числе детей с экстремально низкой массой тела, тяжелыми, критическими состояниями, пороками развития, наследственными заболеваниями.
Тем не менее, несмотря на все эти достижения, мы ставим своей главной задачей смещение педиатрии в профилактическую сторону. Предупредить развитие заболеваний, когда мы видим риск их развития; предупредить прогрессирование тех заболеваний, которые уже развились, особенно наследственных. И, конечно же, минимизировать случаи летального исхода, развитие инвалидизирующих состояний. Мы стоим на страже здоровья еще задолго до рождения ребенка. У нас проводится большая научная деятельность по всем разделам во всех детских клиниках. Более того, Департамент здравоохранения, правительство Москвы инициируют, стимулируют, выделяют ежегодно гранты на выполнение научной деятельности. Это не просто так: гранты должны быть заслуженными, их нужно выиграть, на многих этапах они обсуждаются, в частности в совете главных врачей, потом их отдают экспертам, в том числе федеральным. После принятия решения той или иной клинике выделяется грант на выполнение научной работы. Главная задача при этом — чтобы научные результаты были востребованы и внедрены в московскую педиатрию.
— Можете привести конкретные примеры?
— Примеров много, могу привести по нашей больнице: в прошлом году у нас были гранты по целиакии и по кардиологии, мы их завершили. В этом году мы выиграли гранты по кардиологии, по колитам, по эндоскопическим исследованиям и по сахарному диабету. В рамках этих грантов, используя наш большой практический опыт, мы проводим дополнительные исследования, в том числе генетические, которые позволяют разрабатывать новые технологии диагностики, лечения и наблюдения. Помимо грантов, у нас большая научная деятельность, в частности на базе каждой больницы работают кафедры медицинских вузов, с которыми мы объединяем усилия в практическом, научном и образовательном процессах.
Если говорить о нашей больнице, то это шесть вузов: Российская медицинская академия непрерывного образования, Пироговский и Сеченовский университеты, РУДН и МГУ, а теперь еще МГИМО. Это федеральные центры: ЦИТО, Институт нейрохирургии им. Н.И. Бурденко. На базе больницы выполняются кандидатские, докторские диссертации, причем не только аспирантами и докторантами, но и нашими сотрудниками. Важную роль играет еще и то, что на базе детских больниц, в частности нашей больницы, функционируют университетские клиники, например Университетская клиника педиатрии. Многие наши сотрудники работают в университетской клинике, и наоборот. Создание университетских клиник — важное политическое решение, принятое на уровне правительства Москвы в 2015 г.
— Почему это важно? Какую пользу это приносит пациентам?
— Понятно, что это образовательная функция, а значит, это наш резерв кадров, из которых мы потом отбираем сотрудников. Это научная работа и, конечно, практическая, потому что сотрудники университетской клиники вместе с врачами стоят у постели больного, оперируют, диагностируют, участвуют в обходах, консилиумах, научно-практических форумах. И все это работает на здоровье наших детей.
— Вы сказали о смещении педиатрии в сторону профилактики. Как это происходит?
— Например, для того чтобы выполнить эндоскопическое исследование, ранее нужно было ребенка направлять в стационар, госпитализировать, особенно для исследований под наркозом. Теперь в этом нет необходимости: созданы, по аналогии со взрослыми, эндоскопические детские центры на базе нескольких больниц, в том числе нашей — Детской больницы им. З.А. Башляевой. По направлению гастроэнтеролога ребенок приезжает к нам, его регистрируют, осматривает врач-гастроэнтеролог, проводит исследование, в том числе и под наркозом. Ребенок пробуждается, и все это занимает примерно час-полтора. Мы даем рекомендации, и ребенок уходит домой бодрый и веселый.
Созданы и другие центры в детских больницах: кардиологии, кардиохирургии, гастроэнтерологии. Созданы регистры всех детей по этим профилям. Например, диагноз «целиакия» ставится не сразу: болезнь может протекать под маской других заболеваний — белково-энергетической недостаточности, анемии, пищевой аллергии. Дети поступают к нам для верификации или исключения этих диагнозов. Если диагноз подтверждается, мы ставим на учет, и они постоянно находятся в поле нашего зрения, под диспансерным наблюдением. Аналогичный принцип действует в кардиологии. Это первичная легочная гипертензия — тяжелое орфанное заболевание, кардиомиопатии, дети с нарушением липидного обмена.
Надо отметить, что эти центры тоже были созданы не спонтанно. Мы провели большой научный анализ, результатом которого стал вывод: нужна дальнейшая программа наблюдения этих детей. Эту программу мы разработали на основе обследования более 60 тыс. детей-школьников от девяти до 12 лет на предмет скрытой гиперхолестеринемии. Беря на учет и наблюдая этих детей, мы минимизируем риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в более старшем и взрослом возрасте.
— Многие думают, что такие заболевания свойственны взрослым людям, причем уже немолодым. Откуда они берутся у детей?
— Мы часто напоминаем взрослым, что большинство их болезней берут свое начало в детском возрасте, а часть из них — с рождения. Конечно, у взрослого человека это возникает не в одночасье. В качестве примера можно взять избыточную массу тела у детей. Это потенциальный риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, гипертонической болезни. Эти дети в подростковом возрасте часто переходят во взрослое состояние с уже развившимися необратимыми изменениями, когда могут реализоваться все эти риски. Поэтому наша задача — выявлять этих детей и пристально наблюдать, объединять усилия со всеми смежными специалистами и родителями. Настороженность на этом этапе чаще имеет профилактический характер. Как известно, это намного эффективнее и проще, чем потом лечить уже запущенный недуг.
…
— Вы по своей специальности нефролог. Что нового в нефрологии?
— Здесь мы тоже идем в ногу с мировыми тенденциями: используем мировые протоколы лечения хронических прогрессирующих заболеваний почек, в том числе наследственных и врожденных. Мы очень эффективно сотрудничаем с урологами, потому что у нас много общих пациентов. Мы вырабатываем единые подходы на уровне стационара, поликлиник, и это позволяет уменьшить число прогрессирующих заболеваний, рецидивов. Сейчас мы внедрили в больнице дистанционную литотрипсию при мочекаменной болезни.
— Какие есть изюминки в больнице им. З.А. Башляевой?
— Мы сейчас активно внедряем новые операции: при искривлении позвоночника, деформации грудной клетки. В этом году на базе одного из ведущих наших профильных отделений — кардиологического — мы открыли специализированный центр лечения детей с кардиомиопатией, легочной гипертензией, нарушением липидного обмена. При неэффективности лекарственной терапии при эпилепсии мы также применяем передовые методы лечения.
…
— В одном из ваших интервью прочитала, что детей, которых вы лечите, надо любить даже больше, чем собственных. Неужели это так?
— Детей, конечно же, мы должны не просто лечить. Больной ребенок должен почувствовать особую любовь, тепло и неформальное отношение. Для этого нет какого-то речевого модуля — есть руки педиатра, его взгляд, выражение лица, манера говорить с ребенком. Одно дело — прийти и сказать маме: пусть ребенок откроет рот, поверните его туда, поверните сюда. Другое дело — ты сам ненавязчиво принимаешь в этом участие. Да, на это нужно время, много терпения. Но если педиатр состоялся, если он в педиатрии работает не один год, у него это получается автоматически. Сегодня ко мне на прием пришел плачущий ребенок, который никому не давал к себе подойти. Прошло небольшое количество времени, и ребенок начал улыбаться, его осмотрели необходимые специалисты. Дети все чувствуют. Если приходит человек в белом халате, смотрит строго — первое впечатление, что это страшно и больно.
Интервью опубликовано на портале «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/). Читать и смотреть целиком здесь.